Вчера еще в глаза глядел
Вчера еще в глаза глядел,
А нынче — всё косится в сторону!
Вчера еще до птиц сидел, —
Всё жаворонки нынче — вороны!
Я глупая, а ты умен,
Живой, а я остолбенелая.
О, вопль женщин всех времен:
«Мой милый, что тебе я сделала?!»
И слезы ей — вода, и кровь —
Вода, — в крови, в слезах умылася!
Не мать, а мачеха — Любовь:
Не ждите ни суда, ни милости.
Увозят милых корабли,
Уводит их дорога белая…
И стон стоит вдоль всей земли:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Вчера еще — в ногах лежал!
Равнял с Китайскою державою!
Враз обе рученьки разжал,-
Жизнь выпала — копейкой ржавою!
Детоубийцей на суду
Стою — немилая, несмелая.
Я и в аду тебе скажу:
«Мой милый, что тебе я сделала?»
Спрошу я стул, спрошу кровать:
«За что, за что терплю и бедствую?»
«Отцеловал — колесовать:
Другую целовать», — ответствуют.
Жить приучил в самом огне,
Сам бросил — в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе — я сделала?
Всё ведаю — не прекословь!
Вновь зрячая — уж не любовница!
Где отступается Любовь,
Там подступает Смерть-садовница.
Самo — что дерево трясти! —
В срок яблоко спадает спелое…
— За всё, за всё меня прости,
Мой милый, — что тебе я сделала!
14 июня 1920 года
*****
Глубина зелёных глаз
Эти глаза видели многое, им не привыкать к пустому столу, сначала хлеб отдавали барину, сейчас Советской власти, но раньше помещик оставлял минимум на жизнь, ныне же забирают последнее.
Эти глаза привыкли к ветру степей, им ли не знать соль слёз, но толика веселья в них сохранилась. Это защитная реакция организма, недаром из народа пошла поговорка «помирать так с песнями».
Поэтесса на миг переносит себя на место крестьянки, отрываясь от своей социальной прослойки. Была бы она простой бабой, то пережила бы это легко. Просто закрывала бы глаза от солнца не зонтиком, а рукой, качала бы на руках дитя, не пользуясь кроваткой, а любовь… она жива во всех слоях русского народа.
Обращение к мальчику
В качестве объекта своих наставлений героиня выбирает ревнивого мальчика, который стоит на перепутье – некие внутренние правила сдерживают его от шага в пучину страсти, но молодое тело тянется туда всеми клетками. В голове мальчика мало место для искренней молитвы, поэтому его взгляд на образа скользит, ведь в настоящий момент в организме доминирует страсть и дух пока не может победить тесные позывы. Героиня говорит, почти кричит:
Её религия страсти учит, что сейчас самое время дневать и ночевать под забором в объятьях женского тела, иначе дни пройдут без славы, без ярких воспоминаний. На гербе и флаге этой религии написано, что молодость должна брать своё двумя руками – не надо уклоняться от приключений и обходить стороной любовные утехи. Пока мальчик в нерешительности героиня выкладывает на кон последний козырь:
Ответ мальчишки неизвестен, так как «атака» героини внезапно завершена, и она переходит к прощанию с некоторым наставлением.
«Душа и имя» М.Цветаева
«Душа и имя» Марина Цветаева
Пока огнями смеется бал, Душа не уснет в покое. Но имя Бог мне иное дал: Морское оно, морское!
В круженье вальса, под нежный вздох Забыть не могу тоски я. Мечты иные мне подал Бог: Морские они, морские!
Поет огнями манящий зал, Поет и зовет, сверкая. Но душу Бог мне иную дал: Морская она, морская!
Анализ стихотворения Цветаевой «Душа и имя»
В 1912 году Цветаева выпустила в издательстве «Оле-Лукойе» второй сборник «Волшебный фонарь», посвященный супругу Сергею Эфрону. Реакция многих критиков-современников на него оказалась более сдержанной, нежели на дебютную книгу «Вечерний альбом». Николай Гумилев отмечал, что во втором сборнике Цветаевой встречаются те же темы и образы, что и в первом. Вот только выглядят они суше и бледнее, становясь будто воспоминаниями о воспоминаниях. По мнению Гумилева, в «Волшебном фонаре» поэтесса пытается восполнить недостаток вдохновения мастерством, которого явно не хватает. Цветаеву негативные отклики сильно задели. По ее словам, сборник получил отрицательную оценку, так как она не примкнула ни к одному цеху, стараясь быть в стороне от различных творческих объединений.
«Душа и имя» — стихотворение из книги «Волшебный фонарь», включенное в последний раздел под названием «Не на радость». В произведении поэтесса рассказывает о происхождении своего имени. Марина — женский аналог мужского Марин, возникшего от латинского «mar?nus», что переводится как «морской». Упоминание об этом встречается и позже. В частности, речь идет о знаменитом стихотворении «Кто создан из камня, кто создан из глины…»: …мне имя – Марина Я – бренная пена морская. Значением имени обусловлено появление в творчестве Цветаевой одного из ключевых образов — образа моря. Оно стало своеобразным символом внутреннего мира поэтессы — глубокого, непостижимого, неисчерпаемого. Кроме того, море можно сопоставить с душой Марины Ивановны — неспокойной, бунтующей, способной к переживанию сильнейших страстей.
Стихотворение «Душа и море» построено на повторах. Произведение состоит всего из трех четверостиший. Шесть раз в нем встречается прилагательное «морской», два — существительное «душа». Три раза Цветаева упоминает Бога. Практически одинакова и композиция всех четверостиший.
В подтексте «Души и моря» можно увидеть тему поэта и поэзии. Стихотворец здесь предстает одиноким. Его душа не знает покоя, когда остальные люди веселятся на балу. Непривлекательны для него разноцветные огни и песни. Кружение в вальсе не помогает ему избавиться от тоски. Мотив тотального одиночества поэта характерен для всего творчества Цветаевой. Поэтому и в жизни не примыкала она к литературным течениям, не желала становиться апологетом акмеизма, символизма, футуризма и так далее.
Ты меня не любишь больше – истина в пяти словах…
К сожалению, любовь не всегда бывает счастливой. И в некоторых стихах мы как раз читаем об этом: о боли, о предательстве, о разлуке и о соперницах.
Вчера еще в глаза глядел…
Вчера еще в глаза глядел, А нынче — все косится в сторону! Вчера еще до птиц сидел, — Все жаворонки нынче — вороны!
Я глупая, а ты умен, Живой, а я остолбенелая. О вопль женщин всех времен: «Мой милый, что тебе я сделала?!»
И слезы ей — вода, и кровь — Вода, — в крови, в слезах умылася! Не мать, а мачеха — Любовь: Не ждите ни суда, ни милости.
Увозят милых корабли, Уводит их дорога белая… И стон стоит вдоль всей земли: «Мой милый, что тебе я сделала?»
Вчера еще в ногах лежал! Равнял с Китайскою державою! Враз обе рученьки разжал, — Жизнь выпала — копейкой ржавою!
Детоубийцей на суду Стою — немилая, несмелая. Я и аду тебе скажу: «Мой милый, что тебе я сделала?»
Спрошу я стул, спрошу кровать: «За что, за что терплю и бедствую?» «Отцеловал — колесовать: Другую целовать», — ответствуют.
Жить приучил в самом огне, Сам бросил — в степь заледенелую! Вот, что ты, милый, сделал мне! Мой милый, что тебе — я сделала?
Все ведаю — не прекословь! Вновь зрячая — уж не любовница! Где отступается Любовь, Там подступает Смерть-садовница.
Само — что дерево трясти! — В срок яблоко спадает спелое… — За все, за все меня прости, Мой милый, — что тебе я сделала!
Повторю в канун разлуки…
Повторю в канун разлуки, Под конец любви, Что любила эти руки Властные твои
И глаза — кого — кого-то Взглядом не дарят! — Требующие отчета За случайный взгляд.
Всю тебя с твоей треклятой Страстью — видит Бог! — Требующую расплаты За случайный вздох.
И еще скажу устало, — Слушать не спеши! — Что твоя душа мне встала Поперек души.
И еще тебе скажу я: — Все равно—канун! — Этот рот до поцелуя Твоего был юн.
Взгляд—до взгляда — смел и светел, Сердце — лет пяти… Счастлив, кто тебя не встретил На своем пути.
Следующей
Святая ль ты, иль нет тебя грешнее, Вступаешь в жизнь, иль путь твой позади, — О, лишь люби, люби его нежнее! Как мальчика, баюкай на груди, Не забывай, что ласки сон нужнее, И вдруг от сна объятьем не буди.
Будь вечно с ним: пусть верности научат Тебя печаль его и нежный взор. Будь вечно с ним: его сомненья мучат, Коснись его движением сестер. Но, если сны безгрешностью наскучат, Сумей зажечь чудовищный костер!
Ни с кем кивком не обменяйся смело, В себе тоску о прошлом усыпи. Будь той ему, кем быть я не посмела: Его мечты боязнью не сгуби! Будь той ему, кем быть я не сумела: Люби без мер и до конца люби!
Ты, меня любивший фальшью…
Ты, меня любивший фальшью Истины — и правдой лжи, Ты, меня любивший — дальше Некуда! — За рубежи!
Ты, меня любивший дольше Времени. — Десницы взмах! — Ты меня не любишь больше: Истина в пяти словах.
Мы с тобою лишь два отголоска…
Мы с тобою лишь два отголоска: Ты затихнул, и я замолчу. Мы когда-то с покорностью воска Отдались роковому лучу.
Это чувство сладчайшим недугом Наши души терзало и жгло. Оттого тебя чувствовать другом Мне порою до слез тяжело.
Станет горечь улыбкою скоро, И усталостью станет печаль. Жаль не слова, поверь, и не взора, – Только тайны утраченной жаль!
От тебя, утомленный анатом, Я познала сладчайшее зло. Оттого тебя чувствовать братом Мне порою до слез тяжело.
Горечь! Горечь! Вечный привкус…
Горечь! Горечь! Вечный привкус На губах твоих, о страсть! Горечь! Горечь! Вечный искус — Окончательнее пасть.
Я от горечи — целую Всех, кто молод и хорош. Ты от горечи — другую Ночью за руку ведешь.
С хлебом ем, с водой глотаю Горечь-горе, горечь-грусть. Есть одна трава такая На лугах твоих, о Русь.
Молодую рощу шумную…
Молодую рощу шумную — Дровосек перерубил. То, что Господом задумано — Человек перерешил.
И уж роща не колышется — Только пни, покрыты ржой. В голосах родных мне слышится Темный голос твой чужой.
Все мерещатся мне дивные Темных глаз твоих круги. — Мы с тобою — неразрывные, Неразрывные враги.
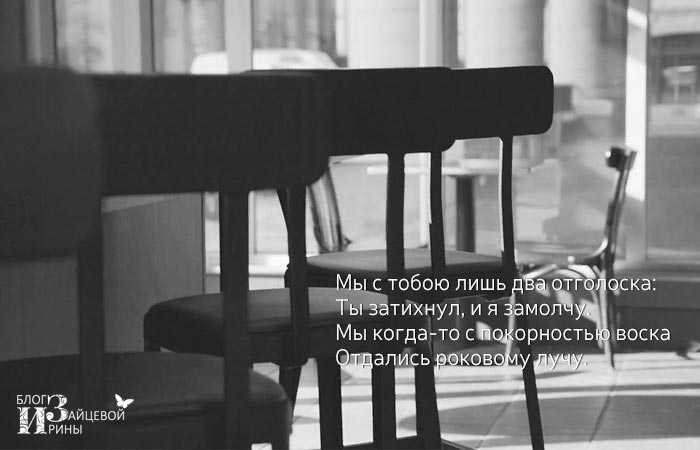
Все минуты свои я тобою наполнила…
Стихи Марины Цветаевой о любви к мужчине откровенны и полны страсти. В них вся она: яркая, бурная, безудержная, отдающая себя всю без остатка, но и столько же требующая взамен.
Кроме любви
Не любила, но плакала. Нет, не любила, но все же Лишь тебе указала в тени обожаемый лик. Было все в нашем сне на любовь не похоже: Ни причин, ни улик.
Только нам этот образ кивнул из вечернего зала, Только мы — ты и я — принесли ему жалобный стих. Обожания нить нас сильнее связала, Чем влюбленность — других.
Но порыв миновал, и приблизился ласково кто-то, Кто молиться не мог, но любил. Осуждать не спеши! Ты мне памятен будешь, как самая нежная нота В пробужденьи души.
В этой грустной душе ты бродил, как в незапертом доме. (В нашем доме, весною…) Забывшей меня не зови! Все минуты свои я тобою наполнила, кроме Самой грустной — любви.
Писала я на аспидной доске
Писала я на аспидной доске, И на листочках вееров поблеклых, И на речном, и на морском песке, Коньками по льду, и кольцом на стеклах, —
И на стволах, которым сотни зим, И, наконец, — чтоб всем было известно! — Что ты любим! любим! любим! любим! — Расписывалась — радугой небесной.
Как я хотела, чтобы каждый цвел В веках со мной! под пальцами моими! И как потом, склонивши лоб на стол, Крест-накрест перечеркивала — имя…
Но ты, в руке продажного писца Зажатое! ты, что мне сердце жалишь! Непроданное мной! внутри кольца! Ты — уцелеешь на скрижалях.
Дарю тебе железное кольцо
Дарю тебе железное кольцо: Бессонницу — восторг — и безнадежность. Чтоб не глядел ты девушкам в лицо, Чтоб позабыл ты даже слово — нежность.
Чтоб голову свою в шальных кудрях Как пенный кубок возносил в пространство, Чтоб обратило в угль — и в пепл — и в прах Тебя — сие железное убранство.
Когда ж к твоим пророческим кудрям Сама Любовь приникнет красным углем, Тогда молчи и прижимай к губам Железное кольцо на пальце смуглом.
Вот талисман тебе от красных губ, Вот первое звено в твоей кольчуге, — Чтоб в буре дней стоял один — как дуб, Один — как Бог в своем железном круге!
Ваш нежный рот – сплошное целованье…
Ваш нежный рот — сплошное целованье… — И это все, и я совсем как нищий. Кто я теперь? — Единая? — Нет, тыща! Завоеватель? — Нет, завоеванье!
Любовь ли это — или любованье, Пера причуда — иль первопричина, Томленье ли по ангельскому чину — Иль чуточку притворства — по призванью…
— Души печаль, очей очарованье, Пера ли росчерк — ах! — не все равно ли, Как назовут сие уста — доколе Ваш нежный рот — сплошное целованье!
После бессонной ночи слабеет тело…
После бессонной ночи слабеет тело, Милым становится и не своим, — ничьим. В медленных жилах еще занывают стрелы — И улыбаешься людям, как серафим.
После бессонной ночи слабеют руки И глубоко равнодушен и враг и друг. Целая радуга — в каждом случайном звуке, И на морозе Флоренцией пахнет вдруг.
Нежно светлеют губы, и тень золоче Возле запавших глаз. Это ночь зажгла Этот светлейший лик, — и от темной ночи Только одно темнеет у нас — глаза.
Расстояние: версты, мили…
Рас-стояние: версты, мили… Нас рас — ставили, рас — садили, Чтобы тихо себя вели По двум разным концам земли.
Рас-стояние: версты, дали… Нас расклеили, распаяли, В две руки развели, распяв, И не знали, что это — сплав
Вдохновений и сухожилий… Не рассорили — рассорили, Расслоили… Стена да ров. Расселили нас как орлов —
Заговорщиков: версты, дали… Не расстроили — растеряли. По трущобам земных широт Рассовали нас как сирот.
Который уж, ну который — март?! Разбили нас — как колоду карт!
Имя твое…
Имя твое — птица в руке, Имя твое — льдинка на языке, Одно единственное движенье губ, Имя твое — пять букв. Мячик, пойманный на лету, Серебряный бубенец во рту,
Камень, кинутый в тихий пруд, Всхлипнет так, как тебя зовут. В легком щелканье ночных копыт Громкое имя твое гремит. И назовет его нам в висок Звонко щелкающий курок.
Имя твое — ах, нельзя! — Имя твое — поцелуй в глаза, В нежную стужу недвижных век, Имя твое — поцелуй в снег. Ключевой, ледяной, голубой глоток. С именем твоим — сон глубок.
Средства выразительности
Тропы в стихотворении «Мне нравится…» отражают все богатство поэтического инструментария Марины Цветаевой:
- “Мне нравится, что вы больны не мной, мне нравится, что я больна не вами” — хиазм (лингвистическая перестановка частей предложения). Лирический герой с трагическим пафосом заявляет, что ей приятно, что чувства между ней и возлюбленным обоюдно ничтожны. Но мы понимаем, что все стихотворение само по себе — агония одинокой души, жертвенно верящей в возможность конкретной любви, порой легкомысленно обесцениваемой.
- “Удушливой волной” — метафора. Очевидно, что это словосочетание Цветаева использует для многим знакомого ощущения в груди, возникающего при виде любимого человека. Исходя из применения негативно окрашенного эпитета, можно сказать, что лирическая героиня мирилась с этим ощущением постоянно, и оно ее опустошало, что характерно для неразделенной любви.
- 3-я строфа — сарказм. Героиня благодарит возлюбленного за все то, что между ними не произошло, делает вид, что она счастлива была не пережить эти моменты, хотя наверняка, ни раз представляла их наедине с собой. Она благодарит его за бездействие, оправдывает его безразличие, безусловно, задевая этим его достоинство.
- 3-я строфа — анафора (единоначатие). Перечисляя моменты жизни, которые героине не довелось пережить с возлюбленным, Цветаева начинает каждую новую строку с предлога “за”. Его применение обусловлено необходимостью ритмического насыщения стихотворного текста, для более эффектной декламации. Преимущества подобного приема стыли более явными, когда стихотворение было переложено на музыку и стало романсом. Именно благодаря единоначатию завершение романса звучит целостным и экспрессивно закономерным.
ДУША.
Выше! Выше! Лови — лётчицу! Не спросившись лозы — отческой Нереидою по — лощется, Нереидою в ла — зурь!
Лира! Лира! Хвалынь — синяя! Полыхание крыл — в скинии! Над мотыгами — и — спинами Полыхание двух бурь!
Муза! Муза! Да как — смеешь ты? Только узел фаты — веющей! Или ветер страниц — шелестом О страницы — и смыв, взмыл…
И покамест — счета — кипами, И покамест — сердца — хрипами, Закипание — до — кипени Двух вспененных — крепись — крыл.
Так, над вашей игрой — крупною, (Между трупами — и — куклами!) Не́ общупана, не́ куплена, Полыхая и пля — ша —
Шестикрылая, ра — душная, Между мнимыми — ниц! — сущая, Не задушена вашими тушами Ду — ша!
Одним из главных героев творчества Марины Цветаевой всегда являлась душа. Зачастую «душа» у Цветаевой – это именно душа поэта, женщины поэта, мужественной женщины. «Душе» в цветаевском понимании всегда присуще своеволие, буйство, безудержный разгул.
В основе стихотворения «Душа» — вечная цветаевская антитеза бытия и быта, воспринимаемая почти физически, явно ощутимая – антитеза души, полета, крыл, серда, кипения и – трупов, кукол, счетов, всего ненавистного поэту.
Для того чтобы показать противостояние быта и души, Цветаева использует стилистическую антитезу: поэтическая лексика, связанная с миром души, противопоставляется нарочито разговорной, даже просторечной: лира, нереиды, Муза \ туши, игра, трупы.
«Душа» Цветаевой – летчица, материя воздушная, свободная. Она стремится «Выше! Выше!»,
улетает «без спросу », она бунтарка. Но полощется в лазури душа не птицей, а нереидою. Нереиды – дочери морского божества. То есть поэтическая душа вмещает в себя и небо, и морскую стихию, которое в стихотворение введено ассоциативно – через образ нереиды и лазурный цвет (в поэтической традиции – цвет моря и неба). Поэтическая душа – как Муза – неуловимая, легкая, воздушная – «и смыв, взмыл». Она остается выше «игр», ее нельзя купить, она полыхающая, горящая и пляшущая.
«Душу» стихотворений Цветаевой можно соотнести с «Мировой Душой», «Вечной женственностью», которая явно противостоит быту и повседневности, взмывается над миром. Однако цветаевская «душа» — гораздо реалистичней и действенней. Она сопротивляется, она живет, возвышается над мотыгами, трупами, куклами.
«Душа» возносится над бытом, над «куклами» и «трупами», над «мотыгами и спинами», над «счетами кипами» поднимается на небесную, почти святую высоту («Полыхание крыл — в скинии
!»: «скиния» – храм). Ассоциативно перед нами появляется также образ Серафима («Шестикрылая» ) — ангела, особо приближённого к престолу Бога и Его прославляющего. Рождается ассоциация с пушкинским пророческим Серафимом.
«Я не верю стихам, которые льются, рвутся – да!». Цветаева рвет свои стихотворения – сразу бросается в глаза обилие тире, призванных лишать стих плавности, насыщенность текста восклицательными знаками, задающими стихотворению предельную напряженность звучания. Поставленные Цветаевой ударения акцентируют формально служебные, но мире поэзии обладающие значимостью слова «и», «не».
Эмоциональное напряжение достигается и графическими средствами – выделением слов с помощью знаков препинания. Цветаева расставляет акценты в стихотворении, разрывая слова с помощью тире, позволяя увидеть сквозь привычную форму слова дополнительные смыслы (ра — душная
).
Анализ стихотворения Цветаевой «Душа и имя»
В 1912 году Цветаева выпустила в издательстве «Оле-Лукойе» второй сборник «Волшебный фонарь», посвященный супругу Сергею Эфрону. Реакция многих критиков-современников на него оказалась более сдержанной, нежели на дебютную книгу «Вечерний альбом». Николай Гумилев отмечал, что во втором сборнике Цветаевой встречаются те же темы и образы, что и в первом. Вот только выглядят они суше и бледнее, становясь будто воспоминаниями о воспоминаниях. По мнению Гумилева, в «Волшебном фонаре» поэтесса пытается восполнить недостаток вдохновения мастерством, которого явно не хватает. Цветаеву негативные отклики сильно задели. По ее словам, сборник получил отрицательную оценку, так как она не примкнула ни к одному цеху, стараясь быть в стороне от различных творческих объединений.
«Душа и имя» — стихотворение из книги «Волшебный фонарь», включенное в последний раздел под названием «Не на радость». В произведении поэтесса рассказывает о происхождении своего имени. Марина — женский аналог мужского Марин, возникшего от латинского «mar? nus», что переводится как «морской». Упоминание об этом встречается и позже. В частности, речь идет о знаменитом стихотворении «Кто создан из камня, кто создан из глины…»: …мне имя — Марина Я — бренная пена морская. Значением имени обусловлено появление в творчестве Цветаевой одного из ключевых образов — образа моря. Оно стало своеобразным символом внутреннего мира поэтессы — глубокого, непостижимого, неисчерпаемого. Кроме того, море можно сопоставить с душой Марины Ивановны — неспокойной, бунтующей, способной к переживанию сильнейших страстей.
Стихотворение «Душа и море» построено на повторах. Произведение состоит всего из трех четверостиший. Шесть раз в нем встречается прилагательное «морской», два — существительное «душа». Три раза Цветаева упоминает Бога. Практически одинакова и композиция всех четверостиший.
В подтексте «Души и моря» можно увидеть тему поэта и поэзии. Стихотворец здесь предстает одиноким. Его душа не знает покоя, когда остальные люди веселятся на балу. Непривлекательны для него разноцветные огни и песни. Кружение в вальсе не помогает ему избавиться от тоски. Мотив тотального одиночества поэта характерен для всего творчества Цветаевой. Поэтому и в жизни не примыкала она к литературным течениям, не желала становиться апологетом акмеизма, символизма, футуризма и так далее.
Популярные темы анализов
К теме поэта и поэзии обращались и обращаются все поэты. И это неспроста. Всем нам свойственно задумываться о том, кто мы и ЧТО мы в этом мире. А уж поэты, которые воспринимают мир не столько разумом
В 1845 году поэт Афанасий Фет был офицером полка в Херсонской губернии. Фет любил красивых молодых девушек, и на службе завел знакомство с двумя сестрами Марией и Еленой. Первая дама не подходила Фету, который мечтал возвратить
Николай Алексеевич Некрасов — великий русский поэт позапрошлого века. Являясь потомственным дворянином, ему были небезразличны судьбы крестьянства. Диалектика души поэта находит свое отражение во множестве написанных произведений,
Игорь Северянин был одним из самых известных и скандальных поэтов XX века. Будучи основоположником эгофутуризма, он считается одним из самых новаторских авторов того времени. Свои стихотворения поэт публиковал с 1904 года, однако
Анализ стихотворения Цветаевой «О, слезы на глазах!..»
Незадолго до своего возвращения на Родину Цветаева создает последний поэтический цикл, который посвящает Чехии. Его лирическая героиня, считающая чешский край родным, «смиренным» и благодатным уголком, со страстью выступает против нацистской оккупации, с горечью изображает картины разрушения Праги, славного «града Вацлава», гибели плодородных «маленьких полей», с воодушевлением описывает эпизоды героического сопротивления «народа моей любви».

Стихотворение, созданное весной 1939 г., служит эмоциональной доминантой цикла. Его жанровые особенности позволяют соотнести художественный текст с плачем: горячие призывы, выражение скорби и крайнего упадка духа сближают произведение с известной формой обрядового фольклора.
Зачин прямо указывает на обостренные чувства лирической героини и предмет ее мучительных переживаний, принадлежащий гражданско-политической сфере. Степень и глубина отчаяния продемонстрированы на синтаксическом уровне: в первых двух катренах используются пять восклицательных знаков.
Причина бед определена при помощи метафоры. Фашистская агрессия получает наименование «черной горы», постепенно завоевывающей свет.
Основное содержание стихотворения определяется развитием темы отказа как реакции на комплекс внешних изменений. Субъект речи не может принять «безумный мир» – реальность, подвергшуюся чудовищной трансформации.
В рамках «отказной» темы возникает мотив возврата билета, который встречается в наследии Серебряного века. Он восходит к фразе из «Братьев Карамазовых» Достоевского, выражающей протест против мироустройства ценой страданий слабых и обездоленных
Цветаевская трактовка близка к первоисточнику: негодование отважной и предельно честной героини не возрастает до богоборческого бунта
Трагический пафос личного выбора подчеркнут анафорой «отказываюсь». Субъект речи отрекается от общества сильных и беспринципных завоевателей, уподобляемых волкам и акулам. Чтобы подчеркнуть бесповоротность решения, автор обращается к устоявшейся речевой единице – пословице, определяющей особенности волчьего образа жизни. В цветаевской версии она представляет собой позорный девиз приспособленцев, пытающихся найти оправдание недостойным поступкам. Отвращение к конформистской модели поведения продемонстрировано с помощью еще одного фразеологизма – «плыть по течению».
Отказ, звучащий в финале, содержит аллюзии на фрагмент пушкинского «Пророка». Героиня, движимая пафосом неприятия, готова отречься от главного свойства личности, составляющего сущность ее натуры, – творческого дара.
«Глаза», анализ стихотворения Цветаевой
Стихотворение «Глаза» было написано в 1918 году, когда первое потрясение Октябрьской революции ушло, люди убедились, что новый строй — надолго, и в общем-то не очень понимали, как в этой новой стране жить.
Это непонимание и растерянность не могли не задеть семью Цветаевых. Поэтесса жила в Москве, голодной и неуютной, её супруг воевал в рядах Белой армии, выживать с дочерью пришлось своими силами. Поэтому фантазийный мир ранних стихотворений Марины Цветаевой был вытеснен миром реальным, с его горечью и откровениями.
Тема произведения — крестьянские глаза и неизбывная печаль в них. Нет ни одного слова, прямо указывающего на тоску и горечь. Однако повторение «привычные к слезам» и не совсем подходящее к описанию глаз прилагательное «солёные» не оставляют сомнений: эти глаза видели больше горя, чем радости.
В первой и второй строфе Цветаева указывает на цвет — зелёные. Именно такие глаза были у самой Марины Ивановны, поэтому стихотворение отражает в немалой степени чувства автора. Нельзя сказать, что это — попытка примерить на себя простонародный образ (что было весьма популярно у творческой интеллигенции тех лет), скорее, читателю предлагается исследование натуры поэтессы.
«Была бы бабою простой», — дважды повторяет героиня, пытаясь понять, какой тогда стала бы её жизнь. И удальство, бесшабашность, свойственные самоощущению Цветаевой, прорываются и здесь: «всегда платили б за постой всё эти же глаза». И далее следует нарочитая скромность: «молчала бы, потупивши глаза», «спят под монашеским платком»… Этот переход от веселья к тишине и смирению отражает и неспокойное настроение лирической героини, и такое же настроение среди тех самых крестьян, выражение чьих глаз она подсмотрела.
Само слово «глаза» повторяется в произведении девять раз на пять строф, всегда — в сильной позиции. Ударение в этом слове подчёркивает последний слог, окончание строки и каждой строфы. И после прочтения остаётся впечатление, что описываемые глаза принадлежат не только лирической героине, а целой нации, женщинам, крестьянкам. «Что видели — не выдадут крестьянские глаза!» — это утверждение заставляет задуматься о том, что же они видели. Страшное, горькое, мёртвое… В строках стихотворения — самоощущение целого народа, выраженное через одну его единицу.
Стихотворный размер в произведении не очень чёткий, плавающий
При разном интонировании может получиться четырёхстопный ямб или двустопный пеон, но если принимать во внимание обилие двухсложный слов, правильнее будет назвать ямб. Сокращённая последняя строка каждой строфы словно отчёркивает сказанное, придавая стиху энергичности
Этой же цели служат и многочисленные, столь любимые Цветаевой тире в середине предложений.
Художественно-выразительных средств в стихотворении немного, голос лирической героини звучит с нарочитой простотой. Это впечатление усиливается простонародными словами: «баба», «постой», «потупивши», «застилась». Вкрапления выглядят очень естественными, как будто автор на самом деле смогла найти внутри себя ту «народную жилку», которая есть в каждом русском человеке. И которая отзывается, стоит к ней лишь прикоснуться.
- «Мне нравится, что Вы больны не мной…», анализ стихотворения Марины Цветаевой
- «Бабушке», анализ стихотворения Цветаевой
- «Молодость», анализ стихотворения Марины Цветаевой
- «Красной кистью рябина зажглась», анализ стихотворения Цветаевой
- «Встреча», анализ стихотворения Цветаевой
- «Ошибка», анализ стихотворения Цветаевой
- «Любовь! Любовь!», анализ стихотворения Цветаевой
- «Рас-стояние: вёрсты, мили», анализ стихотворения Цветаевой
- «В Париже», анализ стихотворения Цветаевой
- «Дикая воля», анализ стихотворения Цветаевой
- «Кошки», анализ стихотворения Цветаевой
- «Имя твое – птица в руке…», анализ стихотворения Цветаевой
- «Моим стихам, написанным так рано…», анализ стихотворения Цветаевой
- «Кто создан из камня, кто создан из глины…», анализ стихотворения Цветаевой
- «Книги в красном переплёте», анализ стихотворения Цветаевой
По произведению: «Глаза»
По писателю: Цветаева Марина Ивановна
Темы
- А. А. Блок . Очевидно, что персоналия Блока — основная тема стихотворения. Мы видим лишь ассоциации, связанные с его именем, но имеем возможность построить его фрагментированный образ, опираясь на субъективное мнение поэтессы, ставшее авторитетным за долгие годы ее моральных и любовных исканий, вдохновивших не одно поколение.
- Любовь . Все образы, созданные Цветаевой особенно трепетны и сокровенны. Они происходят не только из восхищения творчеством Блока. В их основе лежит нечто гораздо большее: готовность всюду следовать за своим кумиром, уважительно и с уместным трепетом относиться к его персоне и творчеству, связывать с ним самые высокие взлеты и пикирующие падения, одним словом — любить.
История создания
Творчество Цветаевой – это уникальный пласт русской поэзии. Поэтесса была разносторонним мастером слова. Однако до революционных событий она даже не знала о том, что чувствуют крестьяне, как они живут. Однако Цветаевой довелось общаться с крестьянами. Она видела их взгляд, который произвел на неё сильное впечатление.
После встречи с крестьянами Цветаева изменила свои взгляды на жизнь. Впрочем, это стало происходить с поэтессой в тот момент, когда она оказалась свидетельницей кровавых событий 1917 года. Многие считают, что именно после этих событий у Цветаевой стало больше появляться грустных мотивов в стихотворениях.
Читайте по теме:
Анализ стихотворения Марины Цветаевой «Идешь, на меня похожий»
Тема стихотворения «Идешь, на меня похожий» ни что иное как смерть. Однако смерть не как разрыв связи с внешним миром, а как некое отчуждение, при котором связь все таки сохраняется. На этот раз поэтесса представила себя давно умершей и обращающейся к случайному посетителю ее могилы.
Присутствие смерти в стихотворении подчеркивается следующими строками:
Земляника вкусная, красивая, но ядовитая, пропитанная трупными ядами. Смерть для героини не трагедия, так как умирают все рано или поздно. Можно предположить, что смерть – это единственное, что связывает и живых и мертвых. Цветаева считала, что человек будет продолжать жить, пока о нем хранится память.
В этом стихотворении в роли лирического героя выступает сама Марина Цветаева. Это одна из ключевых особенностей ее поэзии.
В данном стихотворении лирическая героиня независимая и непокорная.
Поэтесса предстает перед нами как натура страстная и своенравная.
В четвертой строфе наивысший эмоциональный накал. Именно здесь слово «была» выделено авторским ударением.
Данные строчки звучат как зов, как восклицание. Но героиня не хочет опечалить прохожего. Поэтому мы читаем следующие строки:
Конец стихотворения не печален. Героиня словно отгоняет печаль. Говоря о свете Цветаева подчеркивает, что ее героиня хотя и мертва, но все же видит свет.
Особенностью данного стихотворения является аллитерация. Она использована поэтессой с целью создания эффекта шепота.
История создания
Начало 20 века. Царская Россия. Культурные сливки русского общества еще полны патриотизма, пока не обжили свои парижские апартаменты, и готовы к реализации своей духовности на родной земле. Страна нуждается в новых лицах, молодых, амбициозных, тонко чувствующих и понимающих красоту. Таковым человеком, безусловно, стал А. А. Блок. Носитель благородной фамилии, патриот, первородный русский символист — словом, максималист, говорящий устами «не мальчика, но мужа”.
Неудивительно, что высшее общество, в особенности люди, лично знавшие Блока и подмечавшие его галантность, восхищались им, видели в нем человека, способного стать пионером русской поэзии в новом, полном новшеств столетии.
Так же и Марина Цветаева не могла не разделять общего мнения, сложившегося о молодом символисте. Скажем больше, для нее Блок был не просто “товарищем по ремеслу”, а земным покровителем поэзии, ее лицом, душой и воплощением. Так, в 1916 году она начинает работу над поэтическим сборником, целиком посвященным гению Блока. Открывает этот сборник именно рассматриваемое нами стихотворение “Имя твое”, которое и задает комплиментарный тон изречений о молодом поэте, непринужденно покорившем ни одно сердце.
Стоит отметить, что взаимоотношения Блока и Цветаевой напоминают чем-то мотив Крыловской басни: “Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку”. Безусловно, оба стихотворца заслуживают быть одобренными, в том числе и друг другом, но все это невольно воспринимается именно как жест взаимности, а не самостоятельно сформировавшейся симпатии. Доказывается это тем, что Блок нечасто упоминал Цветаеву — своего главного воздыхателя, в то время как Ахматовой — ее невольному оппоненту, поэт посвятил стихотворение “Красота страшна” (не обращаясь вовсе к внешности поэтессы, как можно подумать).






























